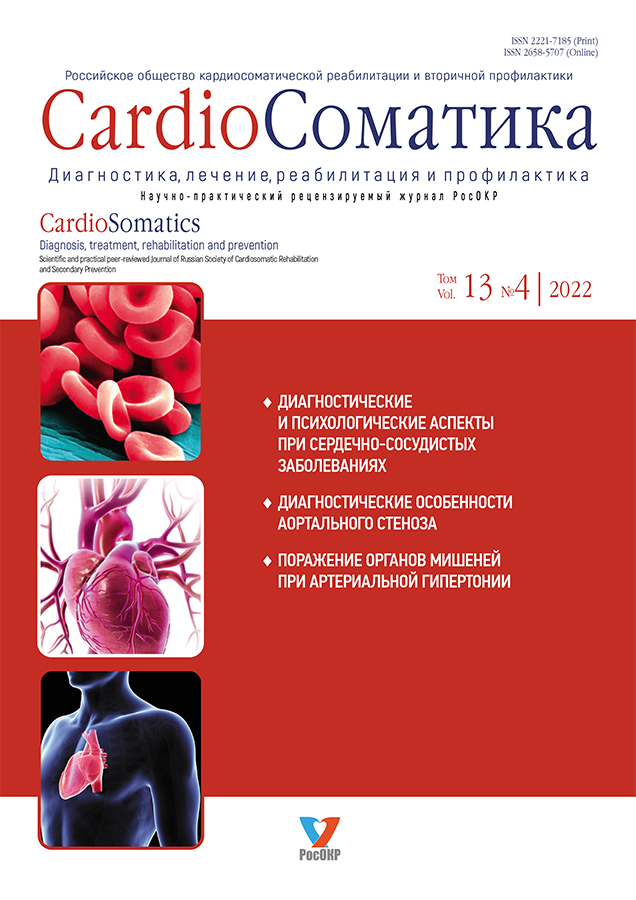Психологические особенности больных синдромом такоцубо: одномоментное исследование
- Авторы: Евдокимов Д.С.1, Феоктистова В.С.1, Семёнова А.П.1, Болдуева С.А.1
-
Учреждения:
- ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
- Выпуск: Том 13, № 4 (2022)
- Страницы: 184-191
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья получена: 07.02.2023
- Статья одобрена: 15.03.2023
- Статья опубликована: 12.04.2023
- URL: https://cardiosomatics.ru/2221-7185/article/view/200183
- DOI: https://doi.org/10.17816/CS200183
- ID: 200183
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель. Оценить психологическое состояние и личностно-адаптационный потенциал у больных с синдромом такоцубо (СТ), а также построить прогностическую модель риска развития заболевания на основании полученных результатов.
Материал и методы. Обследованы 38 пациентов с СТ в сроки 10–14 сут с момента дебюта заболевания, средний возраст наблюдаемых составил 63,8±14,73 года, из них 33 (86,8%) человека женского пола. В контрольную группу (КГ) вошли 40 человек, средний возраст 66,6±10,4 года, из них 39 (97,5%) женщин. Психологическое состояние и стрессоустойчивость оценивали с использованием следующих тестов и опросников: личностный опросник Г. Айзенка; тест жизнестойкости; тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова; шкала воспринимаемого стресса; шкала психологического стресса PSM-25 Лемура–Тесье–Филлиона; шкала тревоги Спилбергера–Ханина; шкала тревоги Гамильтона; госпитальные шкалы тревоги и депрессии; шкала депрессии Бека; шкала для оценки тяжести депрессивной симптоматики Монтгомери–Асберг.
Результаты. Личностный опросник Г. Айзенка показал, что у пациентов с СТ, в отличие от КГ, отмечается более высокий уровень нейротизма (14,6±3,7 и 11,4±4,1 балла, соответственно, p <0,01) и склонность к интроверсии (9,4±3,3 и 12,4±3,5, соответственно, p <0,001). Согласно психометрической шкале Спилбергера–Ханина, в группе больных с СТ была выше реактивная тревожность (46,4±9,1 и 37,0±11,4, соответственно, p <0,0001), а также наблюдалась тенденция к превалированию личностной тревожности (45,1±7,3 и 41,8±11,1, соответственно, p >0,05). По анализируемым шкалам, предназначенным для оценки внутренней тревоги, установлено, что у больных с СТ этот компонент психики был более выраженным (HARS: 21,8±4,8 и 16,1±5,4, соответственно, p <0,0001; HADS: 13,1±3,6 и 7,4±3,0, соответственно, p <0,0001). Депрессия у больных с СТ также по всем опросникам встречалась чаще, чем в КГ (HADS: 100% и 40%, соответственно, p <0,05; BDI: 73,7% и 27,%, соответственно, p <0,05; MADRS: 97,4% и 62,5%, соответственно, p <0,05), и находилась в диапазоне от лёгкой до выраженной. По нашим данным, по тесту жизнестойкости в группе пациентов с СТ в сравнении с КГ наблюдались низкие показатели общей жизнестойкости (71,4±18,0 и 82,6±19,7 соответственно; p <0,05), вовлечённости (32,5±9,1 и 36,8±8,9 балла соответственно; p <0,05) и контроля (23,3±7,3 и 29,2±7,8 балла соответственно; p <0,01). Стрессоустойчивость также оказалась значимо более низкой у пациентов с СТ, чем в КГ (38,9±6,4 и 34,1±7,3 балла соответственно; p <0,001). На основании данных опросников и шкал была построена интегральная модель прогноза развития СТ методом деревьев классификации с высокой (96%) прогностической значимостью.
Заключение. Весомый вклад тревожно-депрессивных расстройств в развитие СТ, а также таких особенностей личности, как интроверсия, нейротизм, повышенная восприимчивость к стрессу при низкой стрессоустойчивости и жизнестойкости, предполагают необходимость своевременной диагностики психологических нарушений и их коррекции у людей подобного типа личности, что, возможно, позволит предупредить или снизить риск развития заболевания.
Полный текст
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ДИ – доверительный интервал
КГ – контрольная группа
СТ – синдром такоцубо
BDI – Beck Depression Inventory (шкала депрессии Бека)
CHAID – Chi Squared Automatic Interaction Detection (метод деревьев классификации)
EPI – Eysenck Personality Inventory (личностный опросник Г. Айзенка)
HADS – Hospital Anxiety and Depression Scales (госпитальные шкалы тревоги и депрессии)
HARS – Hamilton Anxiety Rating Scale (шкала тревоги Гамильтона)
HS – Hardiness Survey (тест жизнестойкости)
MADRS – Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (шкала для оценки степени тяжести депрессивной симптоматики Монтгомери–Асберг)
PSM-25 – Psychological Stress Measure (шкала психологического стресса Лемура–Тесье–Филлиона)
PSS – Perceived Stress Scale (шкала воспринимаемого стресса)
STAI – State-Trait Anxiety Inventory (шкала тревоги Спилбергера)
ОБОСНОВАНИЕ
Синдром такоцубо (СТ) представляет собой форму острой и, как правило, обратимой сердечной недостаточности, провоцируемой у большинства пациентов различными стрессовыми факторами [1]. В большинстве случаев триггером для развития СТ служит стресс, обычно возникающий на фоне отрицательных эмоциональных реакций в ответ на различные жизненные ситуации: смерть близкого человека, ссора, развод, автомобильные аварии, природные катаклизмы и т.д. [2]. Однако описаны случаи СТ, развивающегося при положительных переживаниях: юбилеи, свадьбы детей и внуков, денежные выигрыши – так называемое счастливое сердце («happy heart») [2].
Следует отметить, что в литературе появляется всё больше публикаций о том, что у пациентов с СТ ещё до возникновения заболевания исходно отмечается распространённость таких состояний, как тревожно-депрессивные расстройства, хронический психологический стресс [3–9], которые встречаются даже чаще, чем у больных с острыми формами ишемической болезни сердца [10].
Очевидно, что реакция на стресс зависит от личностных особенностей человека и его способности адаптироваться к стрессовым ситуациям. Однако научных исследований, посвящённых этому вопросу применительно к пациентам с СТ, явно недостаточно.
Цель исследования – оценить психологическое состояние и личностно-адаптационный потенциал у больных с СТ, а также построить прогностическую модель риска развития заболевания на основании полученных результатов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено одномоментное исследование.
КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ
Критерий включения: верифицированный на основании международных критериев InterTAK (согласительный документ Европейского общества кардиологов 2018 года) диагноз СТ [2].
Критерий невключения: отказ от участия в исследовании.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводили на базе ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург) в период с ноября 2020 по декабрь 2022 года.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Психологическое состояние и стрессоустойчивость оценивали у пациентов с СТ и в КГ с использованием следующих валидизированных на территории Российской Федерации психометрических тестов и опросников:
- личностный опросник Г. Айзенка (Eysenck Personality Inventory, EPI, в адаптации А.Г. Шмелёва, выявление экстраверсии– интроверсии и выраженности нейротизма) [11];
- тест жизнестойкости (Hardiness Survey, HS, в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой, оценивает способность личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности) [12];
- тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова [13];
- шкала воспринимаемого стресса-10 (Perceived Stress Scale, PSS, субъективная оценка восприятия обследуемым напряжённости ситуации в течение предыдущего месяца жизни) [14];
- шкала психологического стресса PSM-25 Лемура–Тесье– Филлиона (Psychological Stress Measure, в адаптации Н.Е. Водопьяновой, оценивает психологическое состояние респондента за последнюю неделю и его адаптированность к рабочим нагрузкам) [15];
- шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI, в адаптации Ю.Л. Ханина, оценивает выраженность реактивной или ситуативной тревожности) [16];
- шкала тревоги Гамильтона (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS, позволяет определить уровень тревоги в повседневной жизни) [17];
- госпитальные шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scales, HADS) [16];
- шкала депрессии Бека с оценкой по субшкалам выраженности когнитивно-аффективных и соматических расстройств (Beck Depression Inventory, BDI) [16];
- шкала для оценки степени тяжести депрессивной симптоматики Монтгомери–Асберг (Montgomery–Asberg Depression Rating Scale, MADRS) [16].
АНАЛИЗ В ПОДГРУППАХ
Перед выпиской из стационара, в сроки 10–14 сут после дебюта заболевания, обследованы 38 пациентов с СТ, средний возраст которых составил 63,8±14,73 года, из них 33 (86,8%) человека женского пола. В контрольную группу (КГ) вошли 40 человек, средний возраст 66,6±10,4 года, из них 39 (97,5%) женщин. КГ составили лица, сопоставимые с основной группой по полу и возрасту, не имеющие острых и хронических сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением умеренной артериальной гипертензии (I стадия и 1-я степень).
СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ
Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (протокол № 8 от 11.11.2020). Всеми пациентами подписано добровольное информирование согласие на участие в исследовании.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статистическую обработку полученных результатов осуществляли c использованием программы STATISTICA v. 10 (StatSoft Inc., США). Средние величины описаны в виде среднего и стандартного отклонения (M±SD). Статистическую значимость отличий оценивали при помощи U-критерия Манна–Уитни. Алгоритм оценки риска развития СТ был построен путём медико-математического моделирования с применением метода деревьев классификации (Chi Squared Automatic Interaction Detection, CHAID). Многофакторный анализ и построение прогностической модели проводили методом бинарной логистической регрессии с пошаговым включением признаков. Критерием статистической значимости получаемых выводов считали общепринятую в медицине величину р <0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 38 пациентов с СТ, средний возраст которых составил 63,8±14,73 года, из них 33 (86,8%) человека женского пола. В КГ вошли 40 человек, средний возраст 66,6±10,4 года, из них 39 (97,5%) женщин.
Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту и наличию сердечно-сосудистых факторов риска (табл. 1).
Таблица 1. Общая характеристика исследуемых групп пациентов / Table 1. General characteristics of the studied groups
Показатели | СТ (n=38) | КГ (n=40) | Значимость различий (p <0,05) |
Женщины, n (%) | 33 (86,8) | 39 (97,5) | нд |
Возраст, лет | 63,8±14,3 | 66,6±10,4 | нд |
Индекс массы тела >30 кг/м2 (ожирение), n (%) | 5 (14,3) | 5 (12,5) | нд |
Индекс массы тела 25–30 кг/м2 (избыточная масса тела), n (%) | 11 (28,9) | 16 (40) | нд |
Курение, n (%) | 6 (15,8) | 6 (15) | нд |
Артериальная гипертензия, n (%) | 28 (73,7) | 25 (62,5) | нд |
Отягощённая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, n (%) | 30 (78,9) | 25 (62,5) | нд |
Сахарный диабет 2-го типа, n (%) | 5 (13,2) | 1 (2,5) | нд |
Примечание (здесь и в табл. 2–4). нд – различия не достоверны. Note (here and in Tables 2–4). нд – differences are not significant. | |||
Личностный опросник Г. Айзенка показал, что у пациентов с СТ в целом, в отличие от КГ, отмечается статистически значимо более высокий уровень нейротизма (14,6±3,7 и 11,4±4,1 балла, соответственно, p <0,01) и склонность к интроверсии (9,4±3,3 и 12,4±3,5 балла соответственно, p <0,001). По частоте встречаемости в группе больных с СТ превалировали интроверты с высоким уровнем нейротизма, в КГ в подавляющем большинстве встречались амби- и экстраверты с низкой или средней степенью выраженности нейротизма (табл. 2).
Таблица 2. Оценка психологических особенностей личности по опроснику Айзенка в исследуемых группах / Table 2. Evaluation of the psychological characteristics of personality according to the Eysenck Personality Inventory in the study groups
Фактор | Показатели,n (%) | СТ (n=38) | КГ (n=40) | p |
Уровень нейротизма | Высокий (эмоциональная нестабильность) | 23 (60,5) | 12 (30) | <0,05 |
Среднее значение | 14 (36,9) | 19 (47,5) | нд | |
Низкий (эмоциональная стабильность) | 1 (2,6) | 9 (22,5) | <0,05 | |
Экстраверсия / интроверсия | Интроверт | 25 (65,8) | 9 (22,5) | <0,001 |
Экстраверт | 3 (7,9) | 12 (30) | <0,05 | |
Среднее значение | 10 (26,3) | 19 (47,5) | нд |
Согласно психометрической шкале Спилбергера–Ханина, в группе больных с СТ по сравнению с КГ была выше реактивная тревожность (табл. 3). В большинстве случаев пациенты с СТ имели высокий (52,6%; p <0,05) или средний (44,7%; p >0,05) уровень реактивной тревожности, в КГ же её показатель, наоборот, был низким (20%; p <0,05) или средним (62,5%; p >0,05). Наблюдалась тенденция к превалированию в группе больных с СТ личностной тревожности (p=0,06; см. табл. 3). В 97,3% случаев она находилась на среднем и высоком уровне (p <0,05) в отличие от КГ, в которой 20% респондентов имели низкую личностную тревожность.
Таблица 3. Оценка уровня тревоги в исследуемых группах (средний балл) / Table 3. Assessment of the level of anxiety in the study groups (average score)
Шкалы | СТ (n=38), баллы,M ± SD | КГ (n=40), баллы,M ± SD | p |
Шкала Спилбергера–Ханина STAI (реактивная тревожность) | 46,4±9,1 | 37,0±11,4 | <0,0001 |
Шкала Спилбергера–Ханина STAI (личностная тревожность) | 45,1±7,3 | 41,8±11,1 | нд |
Шкала тревоги Гамильтона HARS | 21,8±4,8 | 16,1±5,4 | <0,0001 |
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (тревога) HADS | 13,1±3,6 | 7,4±3,0 | <0,0001 |
Высокий уровень тревоги у больных с СТ показала и рекомендованная Российским обществом психиатров для диагностики тревожных расстройств у взрослого населения шкала тревоги Гамильтона (см. табл. 3). В отличие от КГ, только у 1/4 пациентов с СТ отсутствовали клинически значимые признаки тревожных расстройств (p <0,01; табл. 4). Средний балл по госпитальной шкале тревоги и депрессии также был выше в группе пациентов с СТ (см. табл. 3). При этом в сравнении с КГ у пациентов с СТ в подавляющем большинстве наблюдалась выраженная тревога (p <0,05; см. табл. 4), тогда как по частоте субклинической тревоги группы значимо не различались.
Таблица 4. Оценка уровня тревоги и депрессии в исследуемых группах / Table 4. Assessment of the level of anxiety and depression in the study groups
Опросники / шкалы | Уровень тревоги | СТ (n=38) | КГ (n=40) | p |
Шкала тревоги Гамильтона HARS, n (%) | Отсутствует | 9 (23,7) | 23 (57,5) | <0,01 |
Средний | 17 (44,7) | 14 (35) | нд | |
Высокий | 12 (31,6) | 3 (7,5) | <0,05 | |
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (тревога) HADS, n (%) | Отсутствует | 2 (5,3) | 22 (55) | <0,0001 |
Субклинически выраженная тревога | 10 (26,3) | 10 (25) | нд | |
Клинически выраженная тревога | 26 (68,4) | 8 (20) | <0,0001 | |
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (депрессия) HADS, n (%) | Нет депрессии | 0 | 24 (60) | <0,0001 |
Субклинически выраженная депрессия | 19 (50) | 9 (22,5) | <0,05 | |
Клинически выраженная депрессия | 19 (50) | 7 (17,5) | <0,01 | |
Шкала депрессии Бека BDI, n (%) | Нет депрессии | 10 (26,3) | 29 (72,5) | <0,0001 |
Лёгкая степень депрессии | 20 (52,6) | 11 (27,5) | <0,05 | |
Умеренная степень депрессии | 8 (21,1) | 0 | <0,01 | |
Выраженная депрессия | 0 | 0 | нд | |
Шкала для оценки степени тяжести депрессивной симптоматики Монтгомери–Асберг MADRS, n (%) | Нет депрессии | 1 (2,6) | 15 (37,5) | <0,001 |
Лёгкая степень депрессии | 29 (76,3) | 21 (52,5) | <0,05 | |
Умеренная степень депрессии | 7 (18,5) | 4 (10) | нд | |
Выраженная депрессия | 1 (2,6) | 0 | нд |
По всем 3 анализируемым шкалам, предназначенным для оценки внутренней тревоги, нами установлено, что у больных с СТ этот компонент психики был более выраженным, чем в КГ.
Депрессия у больных с СТ также по всем опросникам встречалась чаще, чем в КГ, и располагалась в диапазоне от лёгкой до выраженной. По госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS все пациенты с СТ находились в состоянии субклинической или клинически выраженной депрессии (см. табл. 4), средний балл – 11,5±2,9 и 7,6±3,7 для больных с СТ и КГ соответственно (p <0,0001). По опроснику Бека BDI у 73,7% больных с СТ имелись признаки лёгкой и умеренной депрессии, что статистически значимо чаще, чем в КГ (p <0,0001; см. табл. 4). По шкале MADRS депрессия встречалась более чем у 90% больных с СТ (p <0,001), однако у большинства пациентов была лёгкой степени, различий по частоте встречаемости умеренной и выраженной депрессии между основной группой и КГ не обнаружено (см. табл. 4). Различия выраженности степени депрессии у больных с СТ по шкалам HADS, BDI и MADRS, вероятно, обусловлены тем, что опрос по первой шкале ведётся лечащим врачом, в отличие от двух других опросников, которые пациент заполняет самостоятельно.
Жизнестойкость характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, при этом сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности. Жизнестойкость включает в себя 3 сравнительно автономных компонента: «вовлечённость», «контроль», «принятие риска». «Вовлечённость» представляет собой чувство удовольствия от собственной деятельности и уверенности в том, что она приносит пользу для субъекта и общественности. «Контроль» отражает убеждённость человека в наличии причинно-следственной связи между его действиями, поступками и результатами. «Принятие риска» – это компонент, отражающий способность воспринимать происходящие события, извлекать из них позитивный или негативный опыт [18, 19]. По нашим данным, по тесту жизнестойкости HS в группе пациентов с СТ в сравнении с КГ наблюдались низкие показатели общей жизнестойкости (71,4±18,0 и 82,6±19,7 соответственно; p <0,05), вовлечённости (32,5±9,1 и 36,8±8,9 балла соответственно; p <0,05) и контроля (23,3±7,3 и 29,2±7,8 балла соответственно; p <0,01). Только по шкале «принятие риска» группы статистически значимо не различались: 15,7±5,2 и 16,6±4,9 балла соответственно (p >0,05). Таким образом, эти опросники демонстрируют, что пациенты с СТ в повседневной жизни испытывают большое внутреннее напряжение при стрессовых ситуациях.
Стрессоустойчивость также оказалась значимо более низкой у пациентов с СТ (тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова – чем выше балл, тем ниже стрессоустойчивость): 38,9±6,4 и 34,1±7,3 балла соответственно (p <0,001). По сумме баллов стрессоустойчивость у больных с СТ по сравнению с КГ находилась на среднем уровне: 27 (71,1%) и 19 (47,5%) человек соответственно (p <0,05), или регистрировалась на низком уровне: 7 (18,4%) и 1 (2,5%) человек соответственно (p <0,05). Кроме того, по шкале PSS10 у больных с СТ в отличие от КГ оказался выше показатель восприятия стресса: 28,6±4,4 и 25,8±6,4 балла соответственно (p <0,05). Это согласовывалось с данными опросника PSM-25, по которому в основной группе зарегистрирован значимо более высокий уровень психической напряжённости при стрессе: 98,5±27,9 и 80,1±26,3 балла для основной группы и КГ соответственно (p <0,05). При этом выраженность противодействия стрессу по шкале PSS10 (10,1±2,1 и 9,0±2,2 балла для основной группы и КГ соответственно, p <0,05) также была выше в основной группе, то есть больные с СТ, в отличие от лиц КГ, в обычной жизни прилагали больше усилий для преодоления стресса.
Учитывая тот факт, что используемые шкалы продемонстрировали существенные различия в психологическом портрете пациентов с СТ и лиц КГ, для нас представляла интерес возможность прогнозирования риска развития заболевания по результатам проведённого психологического обследования. Из всех опросников, применённых в настоящем исследования, при построении бинарной логистической регрессионной модели риска развития заболевания наиболее значимыми оказались госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS и шкала депрессии Бека BDI. Согласно полученной модели, каждый дополнительный балл по шкале HADS (тревога) увеличивает риск развития СТ в 1,6 раза (95% доверительный интервал, ДИ, 1,26–1,99), а каждый дополнительный балл по субшкале соматических проявлений депрессии опросника Бека BDI увеличивает риск развития заболевания в 1,3 раза (95% ДИ 1,05–1,56).
При построении интегральной модели прогноза развития СТ методом деревьев классификации при использовании данных всех шкал первой прогностически значимой шкалой оказалась субшкала реактивной тревожности опросника Спилберга–Ханина STAI с пороговым значением в 34 балла, превышение которого увеличивает вероятность развития заболевания до 66,7%. При этом в случае, если у респондента показатель компонента жизнестойкости «контроль» будет составлять 18 баллов и менее, то риск возникновения СТ возрастёт до 100%. При суммарном числе баллов по субшкале реактивной тревожности опросника Спилберга–Ханина 34 и менее вероятность развития СТ составляет 8,3%, однако если по тесту на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова балл стрессоустойчивости будет составлять более 38 (чем выше балл, тем ниже стрессоустойчивость), то риск развития заболевания достигнет 66,7% (рис. 1).
Рис. 1. Интегральная модель прогноза развития синдрома такоцубо. Примечание. Узел первого порядка (основной) – набранный балл по субшкале «реактивная тревожность» опросника Спилбергера–Ханина с диагностическим уровнем в 34 балла; узлы второго порядка – тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова с пороговым уровнем в 38 баллов и компонент жизнестойкости «контроль» с пороговым уровнем в 18 баллов.КГ – контрольная группа, СТ – синдром такоцубо. / Fig. 1. Integral model for forecasting the development of ST. Note. Node of the first order (main) – score on the "reactive anxiety" subscale of he Spielberger–Khanin questionnaire with a diagnostic level of 34 points; nodes of the second order – is a test for self-assessment stress resistance of a person NV Kirsheva and NV Ryabchikov with a threshold level of 38 points and the “control” hardiness component with a threshold level of 18 points.КГ – control group, СТ – takotsubo syndrome.
ОБСУЖДЕНИЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты нашего исследования продемонстрировали высокую частоту встречаемости у пациентов с СТ нейротизма (60,5%) и интроверсии (65,8%). Единственная ранее опубликованная работа T.E. Christensen и соавт. показала схожие данные при сравнении больных с СТ (n=40), пациентов с инфарктом миокарда (n=71) и лиц КГ (n=62). Уровень нейротизма оказался статистически значимо выше у пациентов с СТ, чем в КГ, но не было обнаружено значимого различия с больными, перенёсшими инфаркт миокарда [5]. Высокий уровень нейротизма характеризуется эмоциональной неустойчивостью, подверженностью психотравмам, вегетативными расстройствами и выражается в чрезвычайной нервозности, плохой адаптации к окружающей обстановке, постоянном беспокойстве, быстрой смене настроения и склонности к неадекватно сильным депрессивным реакциям [20]. Комбинация интроверсии и нейротизма предполагает у индивидуума тенденцию проявлять в поведении беспокойство, пессимизм и замкнутость. К тому же было показано, что нейротизм с высокой степенью точности предсказывал манифестацию депрессии как в течение ближайшего года, так и в последующем. Депрессивные пациенты характеризуются более высоким нейротизмом, чем здоровые индивидуумы [21].
Представляется логичным, что в нашей работе депрессивные расстройства встречались среди пациентов с СТ более чем в 70% случаев по результатам опросников Бека BDI, MADRS и госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. По данным литературы, распространённость депрессии и тревожных расстройств при СТ колеблется в пределах от 21 до 60% [22]. Согласно сведениям C. Delmas и соавт., тревожно-депрессивные расстройства и хронический психологический стресс у пациентов с СТ встречаются чаще, чем у больных с острым коронарным синдромом [8]. Диагностика тревожных состояний в настоящем исследовании показала высокую степень распространённости у пациентов с СТ общей, реактивной и личностной тревоги. По всей видимости, повышенная частота встречаемости тревожных расстройств у людей, перенёсших СТ, связана не только с их реакцией на конкретную ситуацию, приведшую к данному заболеванию, но и с личностной тревожностью (97% больных имели среднюю или высокую личностную тревожность). Высокая распространённость тревожных расстройств у больных с СТ, по-видимому, не случайна, поскольку это заболевание в основном возникает у женщин пожилого возраста, для которых характерны подобные психические изменения личности [4]. Это также объясняет, почему в КГ средний балл личностной тревожности по шкале Спилбергера–Ханина значимо не отличался от группы больных с СТ, так как КГ была сопоставима с основной группой по полу и возрасту и была представлена преимущественно женщинами пожилого возраста.
Важным представляется и впервые выявленный факт низкой стрессоустойчивости пациентов с СТ на фоне высокой восприимчивости к стрессу, психологической напряжённости при стрессе и плохой адаптации к нему.
Необходимо отметить, что анализ психологического состояния больных с СТ в ранее опубликованных работах осуществлялся, как правило, ретроспективно, в отдалённом периоде заболевания, на сравнительно небольших выборках и с применением других опросников. Тем не менее полученные другими авторами результаты подтверждают данные нашей работы. Так, L. Smeijers и соавт. сравнивали психологическое состояние пациентов с СТ (n=18, дебют заболевания 23±18 мес назад), больных с хронической сердечной недостаточностью I–II функционального класса на фоне артериальной гипертензии (n=19) и лиц КГ (n=19) [22]. Выраженность депрессивных расстройств, уровень воспринимаемого стресса оказались выше в группе больных с СТ, чем в КГ, но не отличались от группы пациентов с хронической сердечной недостаточностью. При этом уровень общей тревожности между группами значимо не различался, что, вероятно, обусловлено малыми выборками групп [22]. D. Lazzeroni и соавт. сравнили между собой результаты психологических опросов 10 пациентов с СТ, перенёсших заболевания год назад, и 9 здоровых добровольцев. В группе больных с СТ были выявлены значительно более высокие баллы по шкале Спилбергера–Ханина STAI (общая тревожность) по сравнению с КГ, а также наблюдалась тенденция к более выраженному уровню депрессии по шкале депрессии Бека BDI, но ввиду небольшого числа респондентов статистически значимого различия выявлено не было [23].
В нашей работе у пациентов с СТ впервые оценены показатель «жизнестойкость» и его компоненты. «Жизнестойкость» является ключевой личностной переменной, которая в стрессовой ситуации способствует снижению физического и психического напряжения и выступает важным фактором психологического благополучия личности [24]. В сравнении с группой здоровых лиц у больных с СТ наблюдаются более низкие значения общей жизнестойкости, а также таких её составляющих, как вовлечённость и контроль. Согласно данным литературы, сниженный общий показатель жизнестойкости говорит о неуверенности в возможности влиять на различные жизненные ситуации, которые в итоге оказывают травмирующее действие, так как несут за собой неизвестность, страх и беспокойство. Низкие значения по компоненту «контроль» свидетельствуют об ощущении у человека невозможности самостоятельно контролировать свою жизнь, что приводит к внутреннему напряжению и стрессовой уязвимости. В то же время низкий уровень вовлечённости говорит о том, что большинство пациентов с СТ в обычной жизни ощущают себя отвергнутыми, повседневная деятельность и жизнь в целом не вызывают у них ощущения радости и интереса к происходящему, что является, в свою очередь, предиктором развития депрессии, которую мы и наблюдаем у пациентов с СТ [25].
Как указано выше, оценка такого понятия, как «жизнестойкость», у больных с СТ ранее не выполнялась, однако если сопоставить наши данные с результатами исследований, в которых жизнестойкость оценивали у пациентов с инфарктом миокарда, оказывается, что у пациентов с инфарктом также снижены характеристики жизнестойкости в сравнении с КГ, но они выше по средним значениям, чем в нашей группе больных с СТ [18].
Обобщая всё вышесказанное, следует отметить, что для больных с СТ характерны интроверсия с высоким уровнем нейротизма, тревожно-депрессивные расстройства и низкая стрессоустойчивость на фоне высокой восприимчивости к стрессу и низкой общей жизнестойкости. Вероятно, такой психологический портрет личности предрасполагает к развитию СТ. Дело в том, что при тревожно- депрессивных расстройствах наблюдается нарушение обратного захвата нейронами норэпинефрина из синаптической щели, что способствует длительной стимуляции симпатической нервной системы и при дополнительном избыточном выбросе катехоламинов в ответ на острый эмоциональный или физический стресс может привести к развитию сократительной дисфункции левого желудочка [5, 26–29]. Помимо этого известно, что депрессия и хронический психологический стресс связаны с такими компонентами патогенеза СТ, как окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция и дисбаланс вегетативной нервной системы [30–33].
Учитывая тесную связь психологических особенностей личности с риском развития СТ, в настоящем исследовании был выполнен многофакторный анализ, и построена интегральная модель прогноза риска развития заболевания. Высокая прогностическая ценность оказалась у госпитальной шкалы тревоги и депрессии (тревога) HADS и шкалы депрессии Бека BDI (субшкала соматических расстройств), каждый дополнительный балл по которым увеличивает риск возникновения СТ в 1,6 и 1,3 раза соответственно. Кроме того, риск развития СТ с высокой прогностической значимостью (96%) определяют субшкала реактивной тревожности опросника Спилберга–Ханина STAI, тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова и компонент жизнестойкости «контроль» (см. рис. 1).
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отсутствие возможности в полной мере совместно с психологом / психотерапевтом провести личное собеседование с каждым больным для большей объективности в оценке психологических особенностей пациентов. Вероятно, персональное интервью со специалистом позволило бы более точно определить степень выраженности тревожно-депрессивного расстройства, в отличие от самооценки при помощи стандартизированных опросников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Весомый вклад тревожно-депрессивных расстройств в развитие СТ, а также таких особенностей личности, как интроверсия, нейротизм, повышенная восприимчивость к стрессу при низкой стрессоустойчивости и жизнестойкости предполагает необходимость своевременной диагностики психологических нарушений и их коррекции у людей подобного типа личности, , что, возможно, позволит предупредить или снизить риск развития заболевания.
Соответствие принципам этики. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (протокол № 8 от 11.11.2020). Всеми пациентами подписано добровольное информирование согласие на участие в исследовании.
Ethics approval. The study was approved by the Local Ethics Committee of the Mechnikov North-Western State Medical University (Protocol No. 8, dated 2020 Apr 11). All patients signed a voluntary informed consent to the study participate.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией данной статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Источник финансирования. Исследование имело финансовую поддержку в форме гранта профессора Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Funding source. The study was financially supported by a grant from Prof. E.E. Eichwald of Mechnikov North-Western State Medical University.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Об авторах
Дмитрий Сергеевич Евдокимов
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Автор, ответственный за переписку.
Email: kasabian244@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3107-1691
SPIN-код: 5260-0063
аспирант каф. факультетской терапии
Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т, д. 47Валерия Сергеевна Феоктистова
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Email: lerissima@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4161-3535
SPIN-код: 3714-9090
канд. мед. наук, доц. каф. факультетской терапии
Россия, Санкт-ПетербургАлена Павловна Семёнова
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Email: semionova.al@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6386-1612
SPIN-код: 5258-0350
аспирант каф. факультетской терапии
Россия, Санкт-ПетербургСветлана Афанасьевна Болдуева
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Email: svetlanaboldueva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1898-084X
SPIN-код: 3716-3375
д-р мед. наук, проф.,зав. каф. факультетской терапии
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Ярмош И.В., Болдуева С.А., Караева Д.А., Евдокимов Д.С. Первичный синдром такоцубо у женщины в старческом возрасте: клинический случай // Неотложная кардиология. 2019. № 3–4. С. 46–50. doi: 10.25679/EMERGCARDIOLOGY.2020.64.96.005
- Ghadri J.R., Wittstein I.S., Prasad A., et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology // Eur Heart J. 2018. Vol. 39, N 22. P. 2032–2046. doi: 10.1093/eurheartj/ehy076
- Napp L.C., Bauersachs J. Takotsubo syndrome: between evidence, myths, and misunderstandings // Herz. 2020. Vol. 45, N 3. P. 252–266.doi: 10.1007/s00059-020-04906-2
- Nayeri A., Rafla-Yuan E., Krishnan S., et al. Psychiatric Illness in Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy: A Review // Psychosomatics. 2018. Vol. 59, N 3. P. 220–226. doi: 10.1016/j.psym.2018.01.011
- Christensen T.E., Bang L.E., Holmvang L., et al. Neuroticism, depression and anxiety in takotsubo cardiomyopathy // BMC Cardiovasc Disord. 2016. N 16. P. 118. doi: 10.1186/s12872-016-0277-4
- Princip M., Langraf-Meister R.E., Slavich G.M., et al. Psychosocial and clinical characteristics of a patient with Takotsubo syndrome and her healthy monozygotic twin: a case report // Eur Heart J Case Rep. 2022. Vol. 6, N 7. P. ytac255. doi: 10.1093/ehjcr/ytac255
- Compare A., Bigi R., Orrego P.S., et al. Type D personality is associated with the development of stress cardiomyopathy following emotional triggers // Ann Behav Med. 2013. Vol. 45, N 3. P. 299–307. doi: 10.1007/s12160-013-9474-x
- Delmas C., Lairez O., Mulin E., et al. Anxiodepressive disorders and chronic psychological stress are associated with Tako-Tsubo cardiomyopathy – New Physiopathological Hypothesis // Circ J. 2013. Vol. 77, N 1. P. 175–180. doi: 10.1253/circj.CJ-12-0759
- Summers M.R., Lennon R.J., Prasad A. Pre-morbid psychiatric and cardiovascular diseases in apical ballooning syndrome (tako-tsubo/stress-induced cardiomyopathy): potential pre-disposing factors? // J Am Coll Cardiol. 2010. Vol. 55, N 7. P. 700–701. doi: 10.1016/j.jacc.2009.10.031
- Templin C., Ghadri J.R., Diekmann J., et al. Clinical Features and Outcomes of Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy // N Engl J Med. 2015. Vol. 373, N 10. P. 929–938. doi: 10.1056/NEJMoa1406761
- Личностный опросник EPI (методика Г. Айзенка). Альманах психологических тестов. Москва, 1995. С. 217–224.
- Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. Москва: Смысл, 2006.
- Киршев Н.В., Рябчиков Н.В. Тест на определение стрессоустойчивости личности. Психология личности. Москва, 1995.
- Абабков В.А., Барышникова К., Воронцова-Венгер О.В., и др. Валидизация русскоязычной версии опросника «шкала воспринимаемого стресса-10» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия16. Психология. Педагогика. 2016. № 2. С. 6–15. doi: 10.21638/11701/spbu16.2016.202
- Сорокин М.Ю., Касьянов Е.Д., Рукавишников Г.В., и др. Популяционное исследование психического здоровья медработников России: факторы дистресса, ассоциированного с пандемией COVID-19 // Социальная и клиническая психиатрия. 2021. Т. 31, № 1. С. 49–58.
- Люсов В.А., Волов Н.А., Лебедева А.Ю., и др. Методы диагностики тревожно-депрессивных расстройств у больных острым инфарктом миокарда // Российский кардиологический журнал. 2010. № 1. С. 77–81.
- Щербатых Ю.В. Методики диагностики тревоги и тревожности – сравнительная оценка // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2021. № 2. С. 85–104.
- Соловьева С.Л., Третьякова Н.С., Колеснеченко М.Г., и др. Психологические ресурсы больных инфарктом миокарда // Профилактическая и клиническая медицина. 2010. № 3–4. С. 136–142.
- Помилуйко А.А. Жизнестойкость и копинг-стратегии у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2014. Т. 33, № 1. С. 25–34.
- Лысенко О.И. Результаты обследования пациентов с сосудистыми оптическими и глаукомными нейропатиями при помощи опросника Х. Айзенка // Ученые записки Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. 2013. Т. 20, № 3. С. 29–30.
- Гаранян Н.Г. Депрессия и личность: обзор зарубежных исследований. Часть II // Социальная и клиническая психиатрия. 2009. Т. 19, № 3. С. 80–91.
- Smeijers L., Szabó B.M., Kop W.J. Psychological distress and personality factors in takotsubo cardiomyopathy // Neth Heart J. 2016. Vol. 24, N 9. P. 530–537. doi: 10.1007/s12471-016-0861-3
- Lazzeroni D., Ciraci C., Sommaruga M., et al. Perceived Anxiety, Coping, and Autonomic Function in Takotsubo Syndrome Long after the Acute Event // Life (Basel). 2022. Vol. 12, N 9. P. 1376. doi: 10.3390/life12091376
- Горьковая И.А., Микляева А.В. Жизнестойкость и копинг-стратегии подростков с сенсорными и двигательными нарушениями // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2018. № 187. С. 85–95.
- Лакомская А.В. Исследование взаимосвязей жизнестойкости и психологического благополучия больных зрелого возраста с кардиопатологией // Смоленский медицинский альманах. 2015. № 3. С. 26–29.
- Kastaun S., Gerriets T., Tschernatsch M., et al. Psychosocial and psychoneuroendocrinal aspects of Takotsubo syndrome // Nat Rev Cardiol. 2016. Vol. 13, N 11. P. 688–694. doi: 10.1038/nrcardio.2016.108
- Buchmann S.J., Lehmann D., Stevens C.E. Takotsubo Cardiomyopathy-Acute Cardiac Dysfunction Associated With Neurological and Psychiatric Disorders // Front Neurol. 2019/ N 10/ P. 917.doi: 10.3389/fneur.2019.00917
- Sciagrà R., Parodi G., Del Pace S., et al. Abnormal response to mental stress in patients with Takotsubo cardiomyopathy detected by gated single photon emission computed tomography // Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010. Vol. 37, N 4. P. 765–772. doi: 10.1007/s00259-009-1362-z
- Klein C., Hiestand T., Ghadri J.R., et al. Takotsubo Syndrome – Predictable from brain imaging data // Sci Rep. 2017. Vol. 7, N 1. P. 5434.doi: 10.1038/s41598-017-05592-7
- Uzun S., Sagud M., Pivac N. Biomarkers of Depression Associated with Comorbid Somatic Diseases // Psychiatr Danub. 2021. Vol. 33, Suppl. 4. P. 463–470.
- Болдуева С.А., Евдокимов Д.С. Кардиомиопатия такоцубо. Обзор данных литературы: понятие, эпидемиология, патогенез. Часть I // Российский кардиологический журнал. 2022. Т. 27, № 3S. С. 4993. doi: 10.15829/1560-4071-2022-4993
- Halaris A. Inflammation-Associated Co-morbidity Between Depression and Cardiovascular Disease // Curr Top Behav Neurosci. 2017. N 31.P. 45–70. doi: 10.1007/7854_2016_28
- Spieker L.E., Hürlimann D., Ruschitzka F., et al. Mental stress induces prolonged endothelial dysfunction via endothelin-A receptors // Circulation. 2002. Vol. 105, N 24. P. 2817–2820. doi: 10.1161/01.cir.0000021598.15895.34
Дополнительные файлы